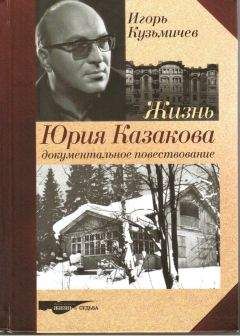Если я все это увижу, пронзительно и подробно опишу, то одно только описание, как женщина вышла на крыльцо и пошла доить корову, могло бы составить целую книгу.
Мы взяли элементарный пример, но важен самый метод.
Из закона абсолютного зрения и слуха вытекает закон абсолютного вкуса и чувство гармонии. Не менее важно из обилия объектов, которые писатель увидел, выделить те, которые создадут полноту картины и в то же время не перегрузят страницы обилием материала, который утомляет читателя.
Язык персонажей далеко не всегда дается писателям. Создается порой впечатление, что пишет глухой человек. Между тем я боюсь сказать, что важнее для произведения — авторская речь или язык персонажей. Одно неверное слово в прямой речи способно исказить образ.
Если я люблю природу, я предполагаю такую же любовь к ней и в читателе, и если я пишу рассказ или роман и действие происходит на природе или в городе, на улице, я никогда не упущу случая, чтобы дать пейзаж. Тем более что пейзаж помогает в создании настроения.
Произведения всех авторов автобиографичны — автобиографичны в том смысле, что все, чем их произведения наполнены, — события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т. д., — когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен был пережить сам.
Каждый рассказ, который мною написан, имеет свою историю, свое начало и конец и свою судьбу. И придумывались они, конечно, по-разному.
Сначала просто ездишь, просто смотришь, что-то тебя поражает, чем-то ты наполнен — какими-то впечатлениями, какими-то воспоминаниями. Приезжаешь в Москву, начинаешь рассказывать друзьям о том, что ты видел, слышал, что тебя поразило. Потом задумываешь сюжет... Содержание всегда образуется из той суммы жизненных воспоминаний, впечатлений, которые сразу являются к автору, когда он начинает писать. Если рассказ хорошо задуман и хорошо «пошел», то к тебе является вдруг все то, что раньше видел, и тогда огромное наслаждение — наполнять страницы картинами, которые ты любишь.
В разное время пишешь по-разному. Есть рассказы в совершенно разных тональностях. Я помню, как писал рассказ «Некрасивая» — рассказ довольно жестокий: о девушке, которую никто не любит, и первый парень, который ее провожает, очень грубо, «по-деревенски» к ней относится (хотя то, что он делал, покажется грубым для человека более или менее вежливого, интеллигентного, для него же это обыкновенное отношение). Закончив этот рассказ, я скоро сел за другой — «Голубое и зеленое» — рассказ о первой любви. Я хотел его писать, используя те же самые приемы, что и в «Некрасивой». Начинал его раза три и чувствовал, что у меня ничего не получается, потому что там очень молоденькие, очень наивные герои и любовь их весьма романтичная — школьная любовь. Поэтому я интуитивно понял, что писать в том же ключе, в каком я писал предыдущий рассказ, нельзя, теперь надо писать в виде лирической исповеди, несколько сентиментальной, наивной. Материал диктует стиль. То, о чем хочешь сказать, тебя направляет.
Слух должен быть не только на то, о чем пишешь, но и на то, что ты сделал. Иногда рассказ не получается с самого начала: написал две-три страницы — и чувствую, что нет того звука, который мне нужен. В этом случае я просто не доканчиваю, бросаю, считая, что рассказ мне не удался, и все. И наоборот бывает. Начинаешь рассказ, напишешь один-два абзаца и чувствуешь: пошло, тебя схватила какая-то власть, и ты попал в гармонию с тем звуком, тоном, который единственно необходим данному произведению. Поэтому я пишу очень быстро, на рассказ трачу день-два, на некоторые — три.
Мне кажется, самое главное в рассказе это начало и конец. Середину можно как-то продлить или сократить. Но правильно начать и кончить — это важнее и труднее всего. Между прочим, я обратил внимание, что почти все стихотворные строчки, которые мы помним, как правило, являются началом стихотворения или его концом — это строчки, являющиеся «ключом» или подводящие итог стихотворения. Так же, мне кажется, и в рассказе: конец и начало — это самая важная вещь.
1968
«Вот и опять север...»[ 39 ]
«Северный дневник» — книга для меня несколько необычная. И потому, что писалась она больше десяти лет, и потому, что составляют ее очерки.
Впервые на Белое море я попал в 1956 году. Полтора месяца шел я побережьем от деревни к деревне (а они друг от друга километрах в сорока — пятидесяти), где пешком, а где на карбасах и мотоботах. Вы только представьте себе старенький мотобот, груженный мешками с мукой (где, в каком затоне дотлевают теперь его многострадальные ребра?), и как остановился он среди стекленеющих вечерних вод, и как якорь плюхнулся, и круги от него пошли по всей бухте, и заколыхалась опрокинутая, отраженная в воде деревня. Мы долго ждали, и мотобот несколько раз принимался сиротливо завывать сиреной, пока от темного берега не отделилось черное пятнышко карбаса с мерно пошевеливающимися усиками весел по бортам.
Когда позабылся уже шум мотобота, а потом прекратились и скрип уключин, и плеск весел и я ступил на твердый песок, другие звуки обступили меня. Вот с шуршанием и шелестом боков кинулись в сторону овцы, вот проехал верхом парень с растопыренными локтями, и фырканье его лошади, мягкий топот копыт по песку долго были слышны между избами, и детские голоса с разных сторон прилетели ко мне, и бульканье случайной волны с обнаженных отливом камней...
Там и сям на берегу красно горели и дымили костерки, дети пекли картошку, перебегали от костра к костру, а другие копались в песке, выковыривая себе морских червей для завтрашней рыбалки, и, когда я выбрался на берег с колотящимся от предвкушаемого счастья сердцем, они не оставили своих занятий, но зоркие взгляды их и внимание к себе я сразу почувствовал, а один белоголовый мальчик, когда я проходил мимо его костерка, предложил вдруг доверчиво:
— Дядь, а дядь! Картох печеных хочешь дак?
Так начался для меня Север. Я был тогда один — чужой, приезжий, но это было прекрасное одиночество: лучше слушалось, думалось и смотрелось. Я ездил на Белое море еще и еще, пока наконец не взялся за «Северный дневник».
Сидя осенью в чудесной деревушке на Оке и дописывая последние главы «Дневника», я думал, что северные мои странствия — и открытия, и восторги, и печали — уже позади, но как же я заблуждался! Север не отпускал меня, а притягивал все сильнее. Мне хотелось глубже проникнуть в жизнь края, где все было необычным — и быт, и язык, и характеры. Потомки древних новгородцев, пришедших несколько столетий назад осваивать этот суровый, прекрасный край, поморы сохранили чистоту и образность истинно русского языка, своеобразие быта. Они не знали крепостного права, не испытывали иноземного ига... География моих дальнейших поездок на Север все расширялась, из каждой поездки я привозил один-два очерка, печатал где придется, пока вдруг не обнаружил, что, собранные вместе, очерки составляют картину северной жизни (разумеется, далеко не полную) за доброе десятилетие.
Я взялся за очерк неслучайно. Жанр этот — весьма емкий и гибкий. То, что твой герой — живой, конкретный человек, а не собирательный образ, конечно, представляет для писателя определенные трудности, но в то же время здесь заключена и сила жанра. На Севере я иногда ловил с рыбаками рыбу, был на тюленьем промысле, при случае работал наравне со всеми, и люди становились мне ближе, будто и я родился на Севере. В то же время я со скрупулезностью исследователя (а вдруг пригодится будущему историку?) узнавал, и сколько стоит килограмм выловленной семги, и сколько зарабатывает рыбак за сезон, и многое-многое другое.
В каждой поездке случались мгновения, когда я ощущал, что вот эта минута, этот день являются для меня как бы наградой за что-то. Я попадал в такую обстановку, где все было прекрасно: и море, и звуки, и запахи, и люди... И тогда я не видел необходимости в рассказе, в выдумывании героя — герой был рядом со мной, я мог любоваться им. У меня была иная задача: получше запомнить этот день и час, этого человека и мир вокруг него — море, тундру, белую ночь... Я не сочинял ничего. Я даже фамилии своим героям не придумывал, все они у меня живут под своими именами...
Думаю ли я о романе? Конечно, я хотел бы написать роман... Но что делать, если сюжеты мне приходят очень локальные, в которых один-два персонажа и действие происходит в течение одного-двух дней. А на этой почве ничего «романного» не взойдет. Да и о сюжетах в точном значении этого слова говорить не приходится. А так, однажды померещится тебе река, пароход, мужчина и женщина, они веселы, и вдруг «виденье гробовое, незапный мрак иль что-нибудь такое...», как говорил пушкинский Моцарт. Вот вам и рассказ... Роман же мне по-прежнему не дается. Одно только я твердо знаю: над романом работать приятнее. Это как долгое путешествие, полное всяких неожиданностей, тогда как рассказ — всего-навсего однодневный переход.
![Юрий Казаков - Две ночи [Проза. Заметки. Наброски]](https://cdn.my-library.info/books/210606/210606.jpg)